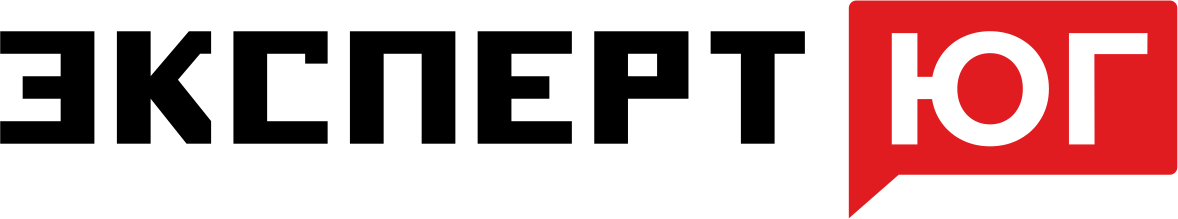Художник Юрий Фесенко // Фото: из архива автора, галереи ZHDANOV, а также Олега Сотника
Поделиться
Автор выражает благодарность галерее ZHDANOV за помощь в организации интервью.

Поделиться
Юрий Фесенко в галерее— Третья часть проекта называется «Ковер-оберег». Кого и от чего оберег должен уберечь?
— Это оберег моего личного города. А личный город состоит из фрагментов моей памяти, фрагментов, которые соединились в единую картину. Такие фрагменты — пазлы памяти — соответствуют отдельным рисункам, выполненными мной в разных городских локациях. Таким образом для меня, рисунки закрепляют блоки воспоминаний. Вообще, наши воспоминания хранятся где-то в глубине подсознания и порой не востребованы. Но, в моем случае, благодаря рисунками, эти воспоминания объединились в прямом и переносном смысле в некую ковровую связь. Я решил сохранить эту память, сберечь её для самого себя, зафиксировать эту ценность неким обережным предметом. Лучше всего для этого подходил ковер.
Наверное, это еще и потребность возраста — покопаться в прошлом. По этой дороге, рано или поздно, в той или иной мере, проходят все – и те, кому сейчас 20 и те, кому за 50. В определенный момент жизни понимаешь, что память твоя перегружена, воспоминания задерживают движение вперед. Но как быть, если доступа к ним нет? Тогда мы ищем возможность выхода на эти воспоминания. Для меня выходом стали отдельные рисунки.
На ковре есть самолет. Это не символ – это воспоминание. В 1971 году над Таганрогом летал странный объект, не самолёт, не вертолет, непонятно что. Один или два дня этот объект кружил над городом. Уже намного позже я узнал, что это был самолёт Роберто Бартини, знаменитого авиаконструктора и мистика, одно время он работал в Таганроге. У моей преподавательницы в художественном институте в Харькове, в прошлом таганроженки, была бабушка итальянка. Бартини часто бывал у них, видно, тосковал по родине, по языку. Моя преподавательница, говорила, что выросла у него на коленях. Он её сподвиг заниматься изобразительным искусством, дарил краски. Она, кстати, стала известным на Украине художником по гобеленам, передала свою увлеченность мне. Для меня вот этот самолёт, в какой-то мере, связан со мной, с целым блоком воспоминаний об этих людях.
Мой ковер — это,скорее, не оберег Таганрога, хотя имеет к нему прямое отношение. Многие визуальные символы — общие, объединяющие мою личную память с коллективной памятью города. Даты, которые можно увидеть на ковре(Второй Азовский поход, год основания города, годы правления Александра Первого, год рождения Чехова – С.М.), это даты, напрямую относящиеся не только к Таганрогу, но, в известной степени, и ко мне. Поэтому я посчитал нужным включить их в ковровую композицию.

Поделиться
Проект «Утраты» — о ценностях Советского СоюзаДля меня этот оберег в какой-то степени игровой объект, с элементами юмора. Там есть летающие свиньи, ползущие под землёй рыбы. Есть Федор Кузьмич, непонятный старик: то ли бродяга, то ли император Александр Первый.
Собака — это дворовая собака, которых в Таганроге бесчисленное количество. В то же время это и чеховская Каштанка.
Есть какая-то несерьезность в моих обережных символах. Я специально отказался от некоторых общепринятых знаковых элементов, из которых традиционно набирают ковровые тексты, исключил кресты, свастики, тем самым обозначив личный, субъективный взгляд на сохранения памяти о прошлом.

Поделиться
Пример украшения улицОберег не может напрямую говорить о каких-то важных вещах. Он говорит косвенно, опосредованно, зашифровано. Сообщение не должно быть доступно всем желающим. Подобно фрагментам нашей памяти, я разделил ковер на отдельные части-пазлы и раздал их отдельным людям — зрителям. Рисунок ковра распался и понять по отдельным фрагментам его текстовое послание теперь невозможно. Вот почему оберегом сделались не только фрагменты, но и мои современники — новые владельцы ковровых пазлов. Распавшись на отдельные части, ковер стал для новых владельцев бытовым предметом или современной картиной, имеющей утилитарное и символическое значение одновременно. Это как дуду (тряпичная игрушка – С.М. ) у французских детей. Дети отождествляют с дуду свой дом, своих родителей, свою родину. С самых младенческих лет эта ткань удерживает их в габаритах того мира, где они родились. Надеюсь, что ковровые пазлы будут отождествляться с частью моего личного города, а, значит и с его прототипом — Таганрогом.
— На вашем ковре нет людей, кроме Федора Кузьмича. Это сделано намерено?
— Вводить какие-то дополнительные элементы, связанные с изображением других людей- значит размывать концентрацию оберега, его направленное действие, обращенное только к автору. Хотя ковер-оберег и объект современного искусства, в котором игра занимает важное место, но правило остается правилом: канал воздействия на зрителя должен быть личным, идущим от одного человека, от автора..
Есть Фёдор Кузьмич - это знак космического человека. Я посчитал, что для меня, надеюсь, что и для других, фигура полубродяги и полуимператора — значимая, и может олицетворять многих других людей.
— Как возникла идея «Личного города»?
— Дело в том, что у меня мама ушла в достаточно пожилом возрасте, ей было 96. Я периодически приезжал в Таганрог навестить ее. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, я бродил по улицам, по базару, по берегу залива. Я замечал, что в городе происходят какие-то изменения. Потом понял, что эти изменения происходят во мне самом. Это были не специальные художественные походы, я просто бродил по улицам, и на меня в той или другой локации наваливались какие-то воспоминания об этом месте. То, что в детстве со мной происходило, или в юности. Так появилась потребность рисовать тем, что было под руками, скорее под ногами.
Я приезжал в разные времена года, и соответствующие сезонные материалы были в моем распоряжении. Листья или песок, снег или дорожная грязь. Вот этими материалами я и стал рисовать.
Первая часть проекта «Личный город» — это рисунки на улицах, своего рода дополнение к существующему городскому окружению. Рисунки на какое-то мгновение меняли облик города, создавали иное визуальное пространство. Пространство наполнялось отдельными новыми и не существующими архитектурными деталями — например, волютами (voluta — завиток, спираль – С.М.) или ковровыми дорожками, или предметами, которые, у меня ассоциировались с тем или иным местом в Таганроге. Так улицы становилась патио или площадями.
В тот момент и создавались мои личные индивидуальные улицы. Я обратил внимание, что в Таганроге в то время было много водонапорных колонок. Если набираешь воду, то в летнее время она очень быстро испаряется, от нее не остается и следа. Я не успевал даже дорисовать сюжет, а он уже высыхал. Это показалось мне символичным.
Я подумал, что можно рисовать водой, и она стала одним из изобразительных материалов, очень значимым для меня. Она, как наша память, точно так же испаряется, не оставляя следа. Требуется какой-то новый выплеск воды, для того ,чтобы память опять проявилась.
Я учился во второй школе, это бывшая гимназия, в которой учился Чехов. Приезжая из Москвы, я частенько проходил мимо. Там шёл ремонт, здание переделывалось под музей, и многие архивы, которые где-то в этой школе хранились, были выброшены. Я, как любитель ненужных предметов, начал рыться в этом мусоре. Увидел фотографии моих знакомых. Нашел фотографию себя самого, сидящего на заборе. И я вспомнил тот день, вплоть до ощущения от неудобства сидения на заборе.
Тогда я и понял, что проект нельзя откладывать.

Поделиться
Украшение улиц— «Ковер-обрег» - это не первое ваше обращение к коврам. Я видел ваши дырявые ковры с изображением географического контура Советского Союза. Как вы на эту «ковровою» тему вышли?
— Коврами я занимаюсь еще со студенческих лет. В качестве дипломной работы в Харьковском художественном институте я ткал фрагмент гобелена. Потом в Ростове сам соткал несколько гобеленов, они не сохранились. Ковроткачество – не быстрое занятие, тренировка воли, сознания. Для меня работа с коврами была изначально связана с вырабатыванием качеств, которые нужны художнику: умение сдерживать себя в нужный момент, умение распределить свои силы, увидеть за частью целое.
В девяностые годы всё время возвращался в мыслях к теме ковра. Я думал,что из себя представляет ковёр как общность эстетических, символических и знаковых элементов.
Вместе с искусствоведом Сергеем Кусковым в Музее народов Востока в Москве мы сделали проект «Трансгрессия». Пазырыкский ковёр - самый древний из сохранившихся ковров, он сейчас хранится в Эрмитаже, был представлен разными авторами как последовательное перепрочтение одного художественного языка другим.
Я понял, что ковёр это целый зашифрованный мир — со своими символами, знаками, какими-то цветовыми акцентами, при помощи которых пишутся тексты-послания, смысл которых сегодня до конца не ясен.
Я писал на коврах,как на холстах. Возникал такой своеобразный палимсест: своими знаками я частично перекрывал ковровый текст, возникал новый смысл.
В проекте «Утраты» в коврах были вырезаны дыры в виде различных изображений. Это был проект об утратах ценностей Советского Союза, того, что перестало быть значимым для большинства людей в девяностые годы. Это стало элементом иносказания. Контур бывшей страны - как дыра, как утрата.
— В Советском Союзе ковёр всегда был какой-то значимой семейной ценностью, чуть ли не сакральной.
— Этой теме я посвятил проект «Заседание Государственной Думы». На ковре размером 3х4 метра был изображён зал заседаний Государственной Думы. В 90-е годы очень часто шли прямые трансляции заседаний, и через экран телевизора они попадали прямо к тебе домой.
На ковре мы закрепили акустические колонки,записали прямую трансляцию какого-то очередного заседания. То есть твой личный ковёр становился носителем чего-то другого. Это тоже было продолжение темы утраты.
Я делал пластиковые ковры, из полиэтиленовых пакетов. С помощью фена склеивал, изображения. В Таганроге есть уникальное место на базаре — пакетный городок, где продают полиэтиленовые пакеты с разнообразными рисунками. Покупатели туда приходят целенаправленно, выбирают нужный рисунок. Я был удивлён, что этому придается такое значение. Эти пакеты я стал использовать как знаки времени. Из них собирались ковры, врисовывались и вплавлялись другие изображения. В конечном итоге возникали своего рода лоскутные одеяла.
— Вас можно назвать андеграундным художником. Но, с другой стороны, ваши выставки проходят в официальных институциях – в Ростовском областном музее изобразительных искусств, в музее «Градостроительство и быт города Таганрога», во дворце Алфераки. Как вы находите выходы на официальные структуры?
— Это не специальные выходы на официальные структуры, скорее необходимость размещения экспозиции исходя из художественного замысла. Так в случае с Пазырыкским ковром была идея трансляции артефакта из одного музея в другой.
Встреча с художником Ждановым (Александр Павлович Жданов, 11 января 1938, ст. Вёшенская - 18 июля 2006, Вашингтон) имела для меня огромное значение. У него я почерпнул идею изолированности. Он не шёл ни на какие контакты с миром официального искусства. Для него это было неприемлемо поскольку отождествлялось со строем, с тем отношением к творчеству, которое губило в человеке всё живое, превращало в обслуживающий персонал существующего режима...
В конца семидесятых - начале восьмидесятых я запретил себе ходить на выставки официального искусства.
Только в девяностых я начал участвовать в разных проектах. Тогда мы с художником Юрием Шабельниковым осуществили совместный проект «Мавзолей: ритуальная модель». Я отвечал за «коврово-архитектурный» раздел. По красным ковровым дорожкам, какими и сегодня застилают коридоры правительственных зданий, была написана панорама Красной площади.
— После окончания в 1977 году Харьковского художественного института вас, 21-летнего молодого человека направили преподавателем в Ростовское художественное училище Вашими студентами были Наталья Дурицкая,Александр Кисляков,Николай Константинов,Василий Слепченко,Максим Белозор. Как получилось, что вам предложили заняться педагогической деятельностью в столь юном возрасте?
— В советское время, после окончания учебного заведения ты мог либо сам выбрать место своей будущей работы и получить оттуда вызов, либо тебя могли «распределить» насильно, порой в неприемлемое для тебя место. Я тогда дружил с Леонидом Стукановым (таганрогский художник, 1947 – 1998 ,выпускник РХУ – С.М.), и он описывал РХУ как достойный объект для местонахождения, неважно в каком качестве.
К тому же после несколько лет работы я понял, что, обучая других, я обучаюсь сам. Иногда по одной и той же дорожке нужно пройти и второй и третий раз. Преподавание в молодости это не только закрепление каких-то ремесленных знаний, но и оптимальная возможность разобраться в себе самом, каждый день сравнивая себя с другими.
К тому же, надо понимать, что я фактически мальчишкой поступил в институт, мне ещё не исполнилось и 17 лет. И была тяга к противостоянию всему официальному,которая живет во мне и сейчас. Некоторые академические вещи, которые в преподавались в институте, я просто игнорировал, занимался собственным творчеством. Вспоминаю, как еще в школе сделал иллюстрации к повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — из-за того что и автор, и повесть были в опале.
В школе, учительница перед экзаменом по истории СССР пригласила меня к себе домой — она была моей соседкой — проверить, как я знаю предмет. Я ей рассказал, как понимаю жизнь. Она покачала головой: «Юра, как же ты будешь жить дальше с таким мировоззрением». Пока живу
…Так что работа в РХУ была достаточно комфортным времяпрепровожением. Ну а потом, в 1982 году Александр Жданов предложил переехать в Москву. Я бросил всё, закрыл мастерскую на улице Обороны в Ростове, и уехал. Началась совсем другая жизнь.
— Ваши ученики, чуть младше вас, были тесно связаны с товариществом «Искусство или смерть». Вы как-то были связаны товариществом?
— Увы, нет. По сути это было уже другое поколение художников. Времена были такие динамичные, что год шел за десять. Динамика художественных интересов была просто головокружительной…
Я как-то не контактировал с ними. Ну и сработало разделение «преподаватель-ученик». Всё-таки я был молодым, но достаточно строгим преподавателем. Дистанция сохранялась. За рамками преподавательского процесса я был совершенно другим человеком, как я понимаю, они не могли распознать, где же я подлинный. А когда движение «Искусство или смерть» как-то оформилось, меня в Ростове уже не было, я был в Москве, мне нужно было как-то там закрепиться, что в советское время было непросто.
Мы не контактировали напрямую. Преемственности, о которой порой мы мечтаем, говорим, здесь не было. Скорее была преемственность противостояния косности, застывшему подходу к искусству, которое было закреплено материальными благами, которое союз художников и другие творческие союзы предлагали участникам процесса, карьерный рост и благополучие. Чтобы не стать рабом этой системы нужно было быть в андеграунде. Но андеграунды бывают разные… У меня тогда были другие интересы.